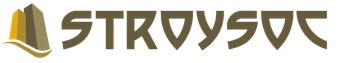Красота цветущих деревьев.
У ранних яблонь набухают почки,
А я боюсь возврата холодов:
И я молю у Господа отсрочки,
Чтоб видеть кипень розовых цветов.
Я с холодами дружен от рожденья.
В Михайлов день родился я и креп.
Я отношусь к опилкам с уваженьем
И к лебеде - мне заменявшим хлеб.
Ко мне судьба всегда благоволила:
Юнцом безусым бросила в Сибирь,
Немного позже Колыме всучила
С крутыми кулаками - парой гирь.
У ранних яблонь приоткрылись почки,
Как будто клювы радостных птенцов.
Слетелись пчелы к розовым кулечкам,
Пьют аромат божественных цветов.
/Катков Михаил/
Весеннее соло
В моей крови поёт весна,
И каждый нерв-струна ей вторит.
Любая мысль тобой полна.
Так время хочется ускорить!
И молодой листвой душа
На ветке жизни зеленеет.
Я не могу жить не спеша,
Когда цвет яблони белеет,
Когда с небес свои лучи
Так щедро солнце проливает,
И сердце так в груди стучит,
Как будто тайну счастья знает.
И хладнокровию ума
Не внемлет больше скрипка-тело:
Играет соло, как сама
Уже давным-давно хотела!
/Маргарита Преображенская/
Как снегом покрыто дерево всё,
Не узнать той мысли мгновенной.
Она -- белизна, всех единство цветов,
Разгадай смысл одежд сокровенный.
Как буря, блистает весенний убор,
Красота все миры озарила,
Из точек нежнейших тончайший узор,
В нем блещет могущества сила.
Здесь атомов движутся точно круги,
Отражаются солнц и вселенной вращенья,
И кто-то задал здесь задачу найти
Дорогу мечты и мгновенья.
Здесь бьется об берег огонь-океан
И бьется о скалы-утесы,
Забыл он удары жестокие ран,
Ему снятся весенние росы.
Здесь плещет чрез край огонь-красота,
Она всех к единству в горниле сплавляет,
И буря несется чрез все чрез края,
Снаружи же яблоню блеск озаряет.
Узоры над садом повисли,
То блещут высокие мысли.
Неудержимое мчится теченье,
Снаружи цветков лишь рожденье.
Безумствуют мощные бури,
Снаружи же море лазури.
Пусть медленно камня движенье,
Неудержимо-мгновенно цветенье.
И путь тот по цели неведом,
Но буря всё мчится тем следом,
Где веет дыхание неги,
Где яблони блещут все в снеге.
На тихом берегу покинутой реки,
Где яблони свой цвет роняют в воду.
Мне повстречалась вдруг случайно ты,
Среди русалок в танце хоровода.
И замерев под снегом лепестков,
Я любовался отраженьем ночи.
в твоих глазах. Сдувая пыль веков,
Себе я эту встречу напророчил.
Ты улыбалась бликами воды,
Качая небо на речном просторе,
Как безупречный ангел красоты,
ведь радость ты моя и горе.
А лепестки ложились на плечо
И покрывали реку белизною.
Ах как стучало сердце горячо,
И уходил я в воду за тобою.
В прозрачной голубой воде,
Твоя ладонь моей едва коснулась.
И я отдал все в тот же миг судьбе...
Моя любимая, во сне вдруг улыбнулась...
Где ты, апреля ветерок,
прелестный, в яблони влюбленный?
Цветут, цветут, а ты снежок
сдуваешь этот благовонный...
В былые, благостные дни,
в холодном розовом тумане,
да, сладко сыпались они,
цветы простых очарований.
/НАБОКОВ Владимир/
С тех пор как встретились мы на земле,
Угомонились снегопады злые,
Растут цветы такие в феврале,
Как мы искали, встретившись впервые.
Весь год в садах весна, белым-бела,
Свой цвет роняет е яблонь нам на плечи.
Я помню: на земле зима была
В последний раз до нашей первой встречи.
Я, как прежде, мечтаю взлететь в высоту,
Я шепчу о тебе, засыпая,..
В мае месяце яблони в самом цвету,
А порой их снежком присыпает.
/Расул Гамзатов/
* * * *
О чем-то ветры шепчутся, сплетаясь в вышине
Цветут, сгорают яблони - все в розовом огне,
В тягучий воздух сыплется и облетает цвет
* * * *
В черный час от печалей тебя заслоню я плечами.
Красоту твою хрупкую, яблоня в майском цвету,
Сберегу от остуд, и венками стихов увенчаю,
И лучами рассветными с тропки пылинки смету.
Милая нарядная солнечная яблоня!
Аромат чарующий льётся в небеса!
Так легко и радостно вдруг на сердце стало мне!
И весна вдохнула вновь веру в чудеса!
Розовые, белые лепестки - цветочки!
В платье подвенечном, как же хороша,
Яблонька вся светится! Нежные листочки!
Я замру под деревцем! И поёт душа!
Улыбнусь задорно! Посмотрю с восторгом!
Не налюбоваться мне трепетной красой!
Выйду в сад навстречу лучезарной зорьке,
И умоюсь с веточек чистою росой!
Поклонюсь я яблоньке, прошепчу ей нежное...
Отзовётся деревце солнечным теплом!
И любовь лучистая, и любовь безбрежная
Засияет ласковым радужным цветком!
© Copyright: Кабанова Елена, 2008
Снежно-белые метели
Вновь укрыли старый сад,
Из весенней колыбели
Льётся нежный аромат.
В белом кружевном наряде
Яблонька прекрасней всех,
И в её лукавом взгляде
Слышится весенний смех...
Не берут мою подружку
Ни болезни, ни года,
Не похожа на старушку,
Хоть уже не молода.
Нежной красотой незримой
Вместе с яблонькой цвету,
Стала горлицей любимой,
Улетев в твою мечту...
(с) Ольга Зорина
Легенды и Мифы
Яблоня, а с ней и яблоко, частый «гость» в различных мифологиях.
Христианство
Яблоня по библейской легенде, именно она была тем райским Древом Познания добра и зла, плоды которого на свою беду вкусили наши прародители, поддавшись искушению лукавого Змея. За что и были извержены из Рая: Адам – чтобы в поте лица добывать хлеб свой, Ева – в мучениях рожать детей своих.
Греческая мифология.
«Яблоко раздора»
На свадьбе Пелея и морской нимфы Фетиды богиня раздора Эрида решила отомстить всем приглашенным, за то, что ее на празднике не было. Она бросила среди гостей яблоко с надписью «Прекраснейшей». На звание прекраснейшей стали претендовать сразу 3 богини – Гера, Афина и Афродита. В качестве судьи выбран был троянский царевич Парис. Богини стали обещать Парису всевозможные блага. Победила в этом споре Афродита, которая пообещала Парису, что поможет заполучить в жены царевну Елену. Таким образом яблоко досталось Афродите, а Гера и Афина были в ярости. Парис же похитил Елену, что послужило поводом к Троянской войне.
«Золотые яблоки Гесперид»
Согласно древнегреческому мифу о Геракле, самым трудным его подвигом на службе у Эврисфея был последний, двенадцатый подвиг. Гераклу предстояло найти на краю света золотое дерево, которое охранялось Гесперидами и стоглавым драконом. С того дерева надо было добыть 3 яблока. Дерево это золотое было выращено богиней земли Геей в подарок великой Гере в день ее свадьбы с Зевсом. Геракл достал заветные яблоки. Эврисфей подарил их Гераклу. А Геракл подарил их своей покровительнице – Афине. Афина же вернула яблоки Гесперидам, чтобы вечно оставались они в садах.
Славянская мифология и славянские традиции.
Существовали мифы о волшебных молодильных яблоках. Согласно мифам если старик съест такое яблоко, то помолодеет.
Славянские традиции, связанные с яблоками:
- яблоко выступало в функции любовного знака: парень и девушка, обменявшись плодами, выражали взаимную симпатию, публично объявляли о своей любви. Яблоко, принятое девушкой во время сватовства считалось согласием на брак.
- яблоневая ветка используется при изготовлении свадебного деревца; яблоки укрепляют также в венке невесты.
- идя на венчание, невеста брала с собой яблоко, а в костеле после венчания она бросала яблоко за алтарь, чтобы иметь
- под яблоней у южных славян совершалось обрядовое бритье жениха перед свадьбой; при смене головного убора невесты на головной убор замужней женщины покрывало с ее головы снимали яблоневой веткой и бросали его на яблоню.
- чтобы все были здоровы, на Рождество, Новый год умывались водой, в которой лежало яблоко
- чтобы дети были здоровыми и красивыми, беременная должна была подержаться за яблоню и посмотреть на ее ветки (зимой) или на яблоки (летом);
Скандинавская мифология
В скандинавской мифологии нельзя не отметить богиню Идунн и ее яблоки бессмертия.
Кельтская мифология
В кельтской мифологии яблоня тесно связана с Иным Миром и легендами об Артуре. Имеется в виду загадочный остров Авалон - «Остров Яблонь». Само слово «Авалон» сближали со словами древнебретонского языка «Inis Afalon», что значит - «остров яблонь».
Яблоки были традиционной плата за проезд в Самхейн (31-ого октября).
В древней Ирландии яблоня была одной из трех вещей, за которые должно платить только живыми существами (два другие - ореховый куст и священная роща).
***
Согретые солнцем зацвели яблони. Издалека видны белые звезды с розовым отливом.
Совсем по-другому цветут груши. Их кроны засыпаны буйным цветением, словно хлопьями снега, напоминая ушедшую зиму.
От яблонь веет весенним настроением. Ни какие цветы не сравнятся по красоте с цветением яблонь. Нераспустившиеся бутоны ярко-розовые или малиновые горошины, миниатюрные розы. Подойдешь поближе к яблоне, видно, как дрожат лепестки и листья на ветру. В это время цветов больше, чем листьев. В каждом цветке пять лепестков. А на плодоножке пять цветов, которые сливаются в один. Я попробовал сосчитать в венчике желтые тычинки, их, наверное, два десятка.
К ним прилетают лесные пчелы, касаются, барахтаются в венчиках. С утра до заката, пока светят лучи солнца, они гудят, собирая нектар. Лесные пчелы с черной и коричневой спинкой. Аромат от яблони такой нежный, что самому хочется стать пчелой, чтобы жить среди благоухающих цветов.
Посмотришь на вершину яблони. Сквозь ветки проглядывает голубое небо. Легкий ветерок несет пух от одуванчиков, пронося его через яблоню, которая еще только оживает. Листья слабые светло-зелено-белые с белым налетом, скрученные, с белыми корешками. Возможно, стараются походить на цветы, чтобы не отвлекать зеленью пчел. Всю силу корни отдают цветению. Цветы образуют кружево на ветках с корзинкой из листьев.
Аромат цветов не исчезнет в воздухе, он будет жить, наполнит сладостью зреющие летом яблоки.
© Copyright: Колыма, 2002
Уникальное обозначение: в саду росла яблонька (рассказ)
Обозначение: в саду росла яблонька
%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%5B>(>%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7Сущность ⇔ рассказ
Текст:
В саду росла яблонька - Софья Могилевская
рассказ
Молодая яблонька
В большом совхозном саду легко можно было заблудиться.
Куда ни взглянешь, ряд за рядом росли яблони: и направо и налево.
Одни были уже старые - развесистые, высокие Другие - помоложе, тоже ветвистые и большие. И на тех и на других осенью поспевало много разных яблок.
А на краю сада росли совсем молодые яблони. Они еще ни разу не цвели, и яблоки на них ни разу не поспевали.
И вот среди этих молодых яблонь одна была такая кудрявая, такая нарядная, что всякий поглядит на неё и скажет:
- Какие же яблоки будут на этой яблоньке?
Из леса выскочил заяц
Была зима. В совхозном саду всё было белым-бело. Яблони будто спали, осыпанные снегом.
Вдруг, откуда ни возьмись, из леса выскочил заяц, большой, серый, ушастый. Выскочил, перемахнул через снежную луговину - и прямо в совхозный сад. А за ним на снегу следы: два кружка рядом, а два позади - один за другим; два кружка рядом, а два позади - один за другим.
Перемахнул заяц через луговину - и к молодым яблоням. На молодых-то кора вкусная, сочная, такую зайцы любят.
Сунулся заяц к одной яблоне, а ствол у неё по самые ветви еловым лапником обвязан, хвоя иголками вниз, колется. Сунулся к другой - и тут весь нос об еловые иглы исколол.
Вдруг видит заяц: у самой маленькой яблоньки колючий ельник развязался и вниз сполз. Обрадовался заяц - вот где можно поживиться, яблоневой коры поглодать!
Да не тут-то было! Послышались голоса, и в сад пришли школьники. Заяц уши на спину заложил да поскорее через снежную луговину обратно в лес. А школьники осмотрели все яблони, увидали, что у самой маленькой еловые ветви сползли вниз, и привязали их покрепче.
Нечего теперь яблоньке зайца бояться!
Хитрые гусеницы
Зачем школьники в сад пришли? Они пришли садоводам помогать - снимать с яблонь гнёзда гусениц.
А гнездо вот оно! Сухой, скрученный лист болтается на тонкой крепкой паутинке. Если осторожно расправить лист, в нём много белых шёлковых кокончиков. Они чуть поменьше спичечной головки, и в каждом, свернувшись колечком, спит всю зиму гусеница.
А на маленькой яблоньке хитрые гусеницы так ловко устроили своё гнездо, что увидеть его было очень трудно. Они слепили его из нескольких листьев и пристроили на самой верхушке. Это было гнездо бабочки-златогузки.
Стали снимать школьники гусеничные гнёзда, а то, в котором поселились хитрые гусеницы, не заметили, пропустили. И осталось гнездо с хитрыми гусеницами зимовать на маленькой яблоне.
Весна наступила
Ещё снег лежит на полях, а уж ольха нарядилась в красивые золотые серёжки, полные душистой пыльцы.
И первые птицы прилетели из тёплых стран.
На проталинках расхаживают грачи, червяков из земли таскают. Сами чёрные, а носы у них белые.
Нагнал ветер с юга тепла да затянул небо тучами, и пошёл первый дождь.
Дни стали длинные, светлые, солнечные.
Прилетели жаворонки. За ними скворцы. Запел свою песенку зяблик. Зазвенели синицы.
Во всех скворешнях в совхозном саду поселились жильцы: в каких летки побольше - скворцы, а где поменьше - синицы и другие мелкие пташки.
И яблони стали пробуждаться после зимнего сна. Живые соки побежали у них из корней в стволы, по стволам - к толстым ветвям, а из толстых ветвей разбежались по всем, даже самым маленьким, веточкам.
Почки на яблонях набухли. Вот-вот раздвинутся коричневые чешуйки и вылупятся крохотные зелёные листья.
Как синицы уберегли яблоньку
Весеннее солнышко пригревает всё сильнее. Стало совсем тепло. И вдруг что-то зашевелилось в сухих, прошлогодних листьях, которые прилепились на верхней ветке маленькой яблоньки.
Это хитрые гусеницы бабочки-златогузки начали просыпаться после долгой зимней спячки.
Сначала из гнезда выползла одна гусеница. Потом вторая, третья… И все они, одна за другой, то сжимаясь, то разжимаясь, стали вылезать наружу.
Из гнезда они перебрались на ветку и по ветке стали подбираться прямо к набухшим почкам. Всё ближе, всё ближе - сейчас начнут грызть молодые листики.
И вдруг их увидели синицы.
- Ци-ци-фи! Что я вижу! - пискнула одна и порхнула на яблоньку.
- Ци-ци-фи! И я это вижу! - подхватила вторая и полетела вслед за первой. Тут гусеницам и пришёл конец. Синицы давай обшаривать на яблоньке каждую ветку, каждую трещинку в коре и склевали гусениц всех до одной.
А потом вернулись в свой домик на берёзе, уселись на его крышу и давай распевать на весь сад.
Пчела за работой
Пчелы вылетели из ульев - и прямо к яблоням. Все яблони стоят в цвету: белые, розовые, душистые. Принялись пчелы за работу.
А одна пчела - мохнатая, золотистая - покружилась, полетала над кудрявой яблонькой, да и села на её раскрытый цветок. Всеми шестью лапками упёрлась в лепестки, сунула головку в серёдку чашечки и давай хоботком высасывать нектар - сладкий, душистый цветочный мёд.
Сначала она сосала нектар хоботком, будто через соломинку, а уж потом вычерпала его, как ложечкой, своим мохнатым язычком.
Пчела недолго побыла на яблоневом цветке, а вся пыльцой перепачкалась. Да разве трудно? Вон сколько тычинок в каждом цветке! У каждой наверху крохотный мешочек с пыльцой. Эти мешочки так и называются - пыльники. Чуть пчела его заденет, пыльца её сразу и осыплет с головы до лапок.
Наберёт пчела нектар на одном цветке, перелетит на другой, а там пыльца с неё стряхнётся, попадёт на пестик другого цветка.
А пестик - в серёдке цветка, плотный, зелёный стерженёк. Вверху он чуть потолще и весь липкий.
Если пыльца с одного цветка попадёт на пестик другого цветка, в этом, в другом, завяжется яблоко. Всё лето оно будет расти и к осени созреет большое, вкусное, с коричневыми семенами внутри.
А не попадёт пыльца на пестик - цветок засохнет и никакого яблока не будет.
Вот какую важную работу делает пчела - себе на зиму мёд запасает, а заодно с цветка на цветок пыльцу переносит.
Яблоки наливаются соком
Откуда ни возьмись, налетел ветер, и на траву села белая круглая снежинка.
Снежинка?
Откуда снежинка?
А почему она не тает?
Да разве это снежинка! Это яблони отцвели. На них завязались крохотные, с зелёную горошину, яблочки. Вот и облетают цветы, они больше яблоням не нужны.
В солнечной тишине садов зреют яблоки, наливаются соком. С каждым днём становятся они всё больше и больше.
И на кудрявой яблоньке много яблок. Ещё никто не знает, какие они будут. Пока они маленькие, зелёные, кислые…
Самолёты над садами
Сама-то бабочка незаметная, а называется - плодожорка. И не подумаешь, что одна такая может сто яблок погубить!
Она летает по саду от яблони к яблоне. Нет-нет, да и положит на маленькое яблоко своё яичко. Из него через несколько дней выйдет розоватая гусеница.
А гусеница начнёт вгрызаться в яблоко, доберётся до самой серёдки - и пропало яблоко. Сорвётся оно с ветки, упадёт на землю недозревшее.
Но едва лишь заметят такую бабочку совхозные садоводы, они сразу дают телеграмму: „Присылайте самолёты сады опрыскивать. Появилась плодожорка“.
И вот в совхоз прилетают самолёты. Когда нет ветра, они кружатся над садами. Они летят низко-низко, а за ними тянутся длинные полосы тумана, похожие на прозрачные хвосты. Это распылённая ядовитая жидкость. Она оседает на листья, на ветки и на крохотные зелёные яблочки.
Яблокам-то от этого ничего не будет, а вредные бабочки и гусеницы пропадут.
Яблони зацвели!
Черёмуха уже в цвету. Стоит, будто снежком посыпана. И вишня покрылась белыми цветами. Груша и та зацвела.
А на яблонях бутоны всё не распускаются. Пока они ещё зелёные, маленькие.
И земля вокруг каждой перекопана, хорошо удобрена, чтобы яблок уродилось побольше. И стволы у всех выбелены, чтобы вредные жуки в коре не заводились. Стоят яблони, будто в белых сапожках.
Всё для них сделано, а они не цветут!
Так и должно быть: сначала черёмуха цветёт, потом вишня, потом груша, а уж потом яблоням черёд подходит.
И правда: прошло несколько деньков - зелёные бутоны порозовели, и весь яблоневый сад зацвёл. Не сосчитать, сколько цветов на каждой ветке!
Расцвели и молодые яблони. И самая маленькая, кудрявая - тоже.
На всех - цветов тьма-тьмущая, а на ней больше всех. А бутоны у неё будто алые ягодки.
Кто ни поглядит, обязательно скажет:
- Какие же яблоки поспеют на этой, на кудрявой?
Яблоки поспели!
Хорошо осенью в яблоневом саду!
Яблони стоят разноцветные, увешанные спелыми яблоками. Под каждой веткой садоводы поставили подпорки: тяжело яблоням.
И каких только нет яблок в саду!
Одни, будто мёдом налитые, на солнце светятся. Другие между листьями горят, словно алые фонарики.
А есть и такие: восковая кожица разрисована красными полосками и крапинками.
Работницы каждое яблоко снимают с ветки, осторожно кладут в корзины-столбушки и несут к упаковочному сараю. Там их укладывают в ящики.
А к сараю то и дело подходят грузовые машины. Подходят порожняком, уходят - доверху груженные ящиками. А в ящиках - яблоки. Они переложены стружками, чтобы не бились, не колотились, не портились.
И на маленькой яблоньке тоже поспели первые яблоки.
Вот они какие, эти яблоки! Поглядите. Золотые, наливные, у каждого на солнечном бочку горит жаркий румянец.
Скоро зима
Холодно стало. Ни одного листка не осталось на яблонях. Все облетели.
Подул вдруг ветер - вьюжный, ледяной, - и на жёлтую траву упал прозрачный яблоневый лепесток.
Лепесток?
Откуда лепесток? Ведь ни одного цветка нет в яблоневом саду.
Да разве это лепесток! Это снежинка упала сверху. Скоро зима. Вот и снег пошёл.
А яблони теперь будут отдыхать и ждать новой весны…
З. Гиппиус
Яблони цветут
Гиппиус З. Сочинения: Стихотворения; Проза / Сост., подгот. текста, комм. К. Азадовского, А. Лаврова. Л.: Худож. лит., 1991. Зачем она так сделала, что я не умею жить без нее? Это она сделала, я не виноват... Я написал это -- и мне стало странно. Говорю, точно о возлюбленной. Но возлюбленной у меня нет. Это моя мать сделала так, что я умираю без нее. Если человека держать в тепле всю жизнь, а потом неодетого выгнать на двадцатиградусный мороз, он непременно умрет. И я умру. Умру из-за нее. Давно уж мне хочется рассказать кому-нибудь все, о чем я думаю, или хоть написать. Рассказать некому, никто не хочет, чтобы я рассказывал, так уже лучше я напишу. Все-таки легче. Мне кажется, что эти последние дни -- важные и значительные для меня. Я до чего-то дошел, кончил половину моей жизни, а дальше дорога прямая, унылая, быстрая и такая однообразная, что уже нельзя будет заметить, идешь ли вперед -- или назад, вверх -- или вниз. И не знаю, нужно ли покориться, как всегда, и идти по ней. Мне теперь двадцать восемь лет, но никто этому не верит, таким старым я кажусь. Я сам знаю, что я старик. У меня было прежде красивое и нежное лицо, как у мамы, мы с ней часто вместе смотрелись в зеркало, и нам казалось, что мы удивительно похожи друг на друга. Теперь она не узнала бы меня. Я согнулся, глаза потускли, борода выросла большая, лицо стало желтое, темное. Я думаю, что я скоро умру. У меня нет, кажется, никакой болезни, но я должен умереть, потому что живет тот, кто хочет, кто имеет волю жить, а у меня нет воли. В последние дни, когда я это сознал и увидел, что мне больше и ждать нечего,-- я даже думал о самоубийстве. Но я не могу. Я боюсь. Я знаю, что у меня пошлое и трусливое сердце. Я боюсь. Все это она сделала. Правда, я думаю, что от нее же у меня то чувство, которое совсем не пошло, и одно давало мне счастие жизни -- сентиментальность. Я не стыжусь этого слова, как все стыдятся. Да, все стыдятся, потому что у всех оно есть... Я музыкант, и если не хороший, то порядочный, как говорят. Думаю, хорошим я и не могу быть, потому что когда играю длинные, трудные рапсодии и фуги, даже сонаты, я совершенно холоден, и мысли у меня самые обыденные, скучные. Чувство прекрасного редко бывало у меня; это -- совсем не сентиментальное чувство, оно захватывает и зовет вперед, а мне это трудно; я люблю тихое умиление, воспоминания, когда так сладко болит сердце и в душе глубокая тишина. Бывало, играя блестящую прелюдию в концерте (теперь уж давно я не выходил на эстраду), я взглядываю на какого-нибудь пожилого господина в первом ряду и думаю: "Вот ты смотришь на меня, слушаешь внимательно и знаешь, что я играю, потом будешь делать толковые замечания о моей "технике" и "экспрессии"... А если бы я бросил теперь эту прелюдию и сыграл маленькую, простую малороссийскую песенку, которая напомнила бы тебе далекие годы, тёмный, теплый сад и, может быть, чьи-нибудь милые, забытые глаза,-- ты встал бы и ушел, чтобы скрыть невольные слезы, радостную грусть и счастье, которого не дает тебе блестящая прелюдия. И непременно ты хотел бы скрыть это счастие, потому что тебе стыдно и кажется, что ты один так чувствуешь и другие не поймут, а между тем все так же чувствуют -- и каждый стыдится, думая, что он один. У каждого есть светлое облако в прошлом". И у меня оно есть, как у всех. Скучно рассказывать с самого начала, с тех пор, как я был ребенком. Да и в двадцать лет я жил так же, как в десять. Только в двадцать я был счастливее, потому что перерос маму и мог гулять с ней под руку. Отношения же наши не изменялись. Бывало, мальчиком я часто делал ей сцены, когда она уезжала в театр без меня, говорил, что она не имеет права веселиться, когда я должен учить уроки. Она серьезно умоляла простить ее, даже делалась печальна, если я дулся. Нам нельзя было ссориться. У нее не было никого, кроме меня. И у меня была она одна. С отцом я даже не разговаривал никогда. Пожилой господин, вечно занятый какими-то постройками, живший в другой половине дома, он совсем не интересовал меня. А мама была такая молодая, тоненькая, как девочка, с большими черными глазами, свежая, блестящая; платье ее шумело при быстрых движениях, и веяло от нее какими-то странными духами,-- я так и не узнал, как они называются. Запах их напоминал самую раннюю весну. Конечно, мы жили не в Петербурге. Я говорил, что у всех есть что-то необычное, светлое в прошлом. Но я не знаю и сомневаюсь, что может быть у людей, которые родились в Петербурге и не видали другого солнца. Хорошо, если я ошибаюсь и сужу по себе. Но я никогда не примирюсь с этим низким небом и темным воздухом, с этой квартирой, где я один. Впрочем, об этом впереди. И все равно, я один в целом свете, как же мне не быть одному в этой квартире? Мы жили в большом городе на юге, в своем доме. Дом был новый, выстроенный отцом, неудобный и холодный. Во дворе был небольшой, но чистый сад, к которому со всех сторон примыкали чужие сады, а потому он казался мне бесконечным. Отец все хотел его вырубить и построить два флигеля и сарай, но так и не собрался. Не знаю, впрочем, может быть, теперь уж и нет нашего сада. Не знаю, да и знать не хочу. Я никогда не был в гимназии. В самом деле, с кем бы мама оставалась? У нее было много знакомых, но никто никогда за ней не ухаживал серьезно, хотя и знали ее отношения к отцу. Я думаю, она сама не хотела. У меня были лучшие гимназические учителя, в я учился недурно. Мама, конечно, училась со мною, но ей часто надоедало, и она говорила: -- Володя, бросим книги, пойдем гулять, а? И мы шли,-- она нарядная, веселая, а я счастливый, что у меня такая хорошенькая мама, и я так на нее похож. Она совсем не изменялась, не старела, и скоро нас стали принимать за брата и сестру, особенно когда у меня выросли усы и маленькая борода. Мне казалось, что и я не изменился внутренно. Только к двадцати годам я серьезно стал заниматься музыкой и мечтал о консерватории. Гимназический экзамен я сдал хорошо, и надо было на что-нибудь решаться. -- Ты поедешь в консерваторию, в Москву, непременно,-- говорила мама.-- Надо скорее, тебе уже двадцать лет. Ты будешь знаменитым, вот увидишь. -- А когда же мы поедем? -- Осенью, я думаю. Хорошо? Не было и речи о том, чтобы мне ехать без мамы. С кем бы я стал говорить? Кто бы ласкал меня и ходил со мною гулять? А кто бы ухаживал за мною, когда я заболею? Да разве возможно ей оставаться без меня, когда мы ни на один день не расставались, все делали и обсуждали сообща? Я и заниматься не стал бы без нее. Так же, как бывало ребенком, я садился по вечерам у огня в ее комнате на полу, около ее ног, и рассказывал ей, как та и та барышня в меня влюблены, как я за ними ухаживаю и какая мне больше нравится. Мне в это время казалось, что все барышни должны быть в меня влюблены, потому что я такой красивый и так хорошо играю на фортепиано. -- Знаешь, Володя,-- сказала мне раз мама,-- ведь ты совсем не похож на мужчину, ты совершенно женщина, оттого, должно быть, мы с тобой так и сошлись... Или это я сама так сделала,-- прибавила она, подумав.-- Ты, например, в мужском обществе и не бываешь никогда; а среди женщин я тебя видела -- там ты тоже как-то не ухаживаешь, а кокетничаешь. Не знаю... но мне кажется, будь ты мне чужой -- ты мне не понравился бы. Я страшно обиделся и надулся. Как! Сама же она говорила, что я похож на нее, а теперь я ей не нравлюсь? Если это и нехорошо, что я похож на женщину, то ведь она же сама прежде этого не боялась? Да и что тут нехорошего? Пусть я похож на женщину! Я люблю прежде всего все красивое -- но без суровости, без силы, а нежное и простое. Я не виноват, что я такой... Мама долго просила у меня прощения, и мы помирились. Но я не забыл ее слов и часто потом говорил ей: -- Вот Сыромятников или Маремьянов, правда, какие мужественные? Правда, они должны нравиться женщинам? Мама улыбалась и зажимала мне рот своей большой, но красивой рукой с бесчисленными звенящими браслетами. Я знал, что делался фатом, потому что я все-таки очень нравился тамошним барышням, знал -- жизнь проходила пусто, и сердце делалось пошлым от этой вечной рисовки и бесцельного желания нравиться. Сам я ни разу не влюблялся. Нравились многие, но не сильно. В сущности, я был очень чистым в то время, как редкие, но мысленно я оказывался не лучше других. Говорят, что всегда чистые люди -- не чисты в мыслях; но мне кажется, что это неправда. И у меня это было временно и, я думаю, от робости, от пошлой и праздной жизни и оттого, что меня все портили и баловали. Удивительно, как мало меня интересовали книги. Я их читал, пока не сдал экзамена. А с тех пор я занимался только музыкой. Она одна меня волновала и заставляла вспоминать то, чего не было. Для музыки я мог забыть многое. Наконец мы поехали в Москву. И я был рад. Я инстинктивно чувствовал, что надо все переменить. С нами поехала наша старая экономка, без нее мы совсем пропали бы. Я в Москве никогда не был, а мама хотя и жила там прежде, однако ничего не знала и не умела. Может быть, и сумела бы, но ей было скучно заботиться и суетиться, и я это отлично понимал. Мы наняли хорошенькую квартирку на Малой Никитской и зажили припеваючи, по-товарищески. Ездили в театр, кататься. Скоро явились знакомые, нашлись родственники. Но я стал заниматься ревностно и даже редко выходил, когда у мамы бывали гости. В консерватории я ни с кем не сошелся, кроме своего профессора, еще молодого человека. Я ему казался странным, хотя, как он говорил, очень талантливым: Он, однако, угадал меня только после того, как я его ввел к нам и он увидал мою маму. Нас друг без друга понять было нельзя, а вместе, как говорили, мы составляли одно целое. -- Смотрите, молодой человек,-- сказал мне раз профессор,-- занимайтесь хорошенько. Из вас должно выйти что-нибудь, или вы совсем пропадете. И я занимался. Даже лень свою забыл, не заботился о волосах и об одежде, редко выезжал и все играл свои гаммы. Я их не любил и терпел только, как трудную лестницу, по которой нужно взбираться наверх. Как я тосковал о синем небе, о земле, о цветах! Я ни о чем так не тосковал, я не думал, что будет тоска. Мама утешала меня, но... это было мое больное место. Я знал, что тут мы не понимаем друг друга, только тут. Она даже сада нашего не любила -- гулять ходила по улицам, говорила, что солнечный свет гораздо беспокойнее полутьмы гостиной, а ее духи лучше запаха настоящей весны. Когда я об этом думал, приходило невольное чувство на минуту, что она немолода, что она не может быть вполне моим товарищем, что в глубине души -- между нами преграда. Но это были только минуты... Я говорил, что не сошелся ни с кем. Близко не сходился, но знакомился и несколько раз попадал на кутежи, не ночевал дома... Мама расспрашивала меня с любопытством и без всяких упреков, но я был как-то недоволен и рассказывал подробно, с омерзением, хотя не без гордости. -- Это не важно, Володя,-- говорила мама.-- Это я все так и думала. Ты только меня не должен забывать. Понимаешь, чтобы я была у тебя первой, и всегда, как ты у меня. Понимаешь? Иначе жить нельзя. Понимаешь? Я только улыбался и обнимал ее. Как же она может быть не первой? Кто же тогда? Прошло несколько лет. Я кончал консерваторию, выступал в концертах -- и с успехом. Но я сам был не совсем доволен. Что мне в этих трескучих пьесах, где я так быстро перебираю пальцами, и все удивляются и хвалят меня? Когда же я смогу сыграть то, что слышу часто,-- но что ускользает от меня? Если сумею, если найду -- то все сразу изменится, и я буду одно чувствовать с теми, кто слушает. Мы вместе будем плакать, потому что оно пройдет не мимо, а заденет, зацепит самое тайное, самое глубокое, одно для всех... Да, мы будем плакать; а потом... потом все равно, ну -- умрем. Все равно... Я знал, что пока я сам не чувствую -- ничего не будет; и верил без сомнений, что если придет ко мне -- то и ко всем придет, кому я буду "говорить". Я всегда мысленно вместо "играть" употреблял выражение "говорить с людьми". Может быть, все это было неумно. Но я никогда не считал себя умным человеком. У меня и самолюбия тут не было. Я знал, что я неразвит и малообразован. Да и пусть. Я не к этому шел, у меня другое счастье, другая дорога меня поведет наверх. Мама раза два меня оставляла одного на несколько недель, ей необходимо было уехать домой. И каждый раз я умирал, бросал заниматься, почти не ел. У меня являлся какой-то нервный ужас, мне казалось, что я один на свете, ее нет и не было. Главное -- не было! А если не было, значит, и не будет... Зачем она так связала меня с собою, что жизнь без нее не могла длиться? Если я скажу, что любил ее,-- это будет не то слово: не люблю я воздух, пищу -- а жить без них не могу. Я знаю, что я слабый, слабый человек. У меня нет силы сделать против себя, не страдать, когда я страдаю... Я был последний год в Москве, когда заболел отец, и мама уехала перед Рождеством. А в конце января я заболел сам, бросил все и приехал домой. Что ж, лишний год -- так лишний год, а заниматься без нее я все равно не могу. Я приехал, и мы целый вечер просидели вместе на диванчике в ее комнате и молчали. Но я знал, что она довольна. Она так же не могла жить без меня, как я без нее... Я проводил дни дома и много играл. У меня была небольшая комната в одно окно, и окно это выходило на двор, к саду. Я поставил свой рояль к окну и смотрел на небо и на деревья, когда играл. В средине февраля стало совсем уж тепло. Я ходил в сад и смотрел на голубое небо между голыми ветвями черешень и яблонь. Какое оно было веселое, золотое между черными сучьями! А на дальних горах чуть желтела, даже еще не зеленела, а желтела первая травка. Она всегда из земли выходит такая светлая и молодая, что кажется желтой. Люблю я эти крошечные травинки, первые; они -- точно дети, любопытные и неловкие, подымают серый комок земли и глядят на солнце. Ах, мама... Зачем она не ходила со мной в сад и не любила того, что я любил? И опять холодная струя пробиралась в мое сердце, опять отчужденность... Как это странно! И как больно... Чем дальше шла весна, тем больше я сидел в саду и тем радостнее мне становилось. Точно я сам рос вместе с желтыми цветами. Свои фуги я забросил: опять я слышал в душе что-то такое, что светлее всяких фуг, опять я искал -- и не мог найти. Оно было тут, близко, в весеннем шуме, в весеннем запахе... И как оно далеко от меня теперь!.. Листьев не было видно, но на яблонях и черешнях розовели круглые крепкие почки, совсем еще закрытые, точно спящие. Мне один раз пришло в голову: откуда они, эти почки, зачем они? Зачем это небо, эта весна? Отчего я ничего не знаю? Но я испугался. Не надо, не надо вопросов, не нужно думать, нужно покориться и отдаться всему, и тогда будет не страшно и просто... Я сидел в конце узенькой сырой дорожки на низенькой скамеечке у самого дальнего забора моего сада. Это был не забор, а живая изгородь, пока еще черная. Я никогда не горевал, что мой сад не тянулся далеко, а кончался здесь, у этой изгороди. Всюду, куда я ни смотрел, были деревья, трава и земля, а над ними небо. Какое мне дело до того, что это деревья чужих садов, когда они такие же, как и мои? Все мое, на что я смотрю и что меня радует. И те обрывистые горы с глубокими сизыми тенями -- далеко на небе,-- они тоже мои. Солнце шло к западу, и лучи его делались холоднее. Я знал, что мне пора идти домой, но не мог расстаться со своей скамейкой. Вдруг позади меня кто-то прошел, тихо, так что я едва услышал. Я обернулся: шаги слышались за изгородью, в чужом саду. Это были даже не шаги, а какой-то связный шорох, точно что-то проволоклось по земле -- и затихло. Я мог бы встать и посмотреть, что это такое,-- изгородь приходилась мне в одном месте чуть выше пояса,-- но я подумал: "Ну, все равно, не стоит". Весенний воздух утомил меня, мне хотелось быть спокойным и дремать. Но опять повторился шорох и умолк сразу. Я поднял глаза и встретился с чужими глазами, которые пристально и зло смотрели на меня. Я почувствовал, что они смотрели зло, потому что мне стало беспокойно. Потом сразу выражение глаз изменилось и стало равнодушным. За изгородью стояла незнакомая мне девушка. Несколько времени мы молчали и смотрели друг на друга. Я думал, что она уйдет. Но она заговорила. -- Здравствуйте,-- сказала она неприветливо.-- Я вас давно вижу. Зачем вы вечно здесь сидите? -- Тут хорошо,-- отвечал я как-то робко, точно извиняясь.-- А я вас никогда не видел. -- Я смотрела издали. Я живу вон там.-- И она указала на чуть видный за деревьями дом, далеко от изгороди. Когда она сделала движение рукой, я в первый раз заметил, что одежда ее была странная, не похожая на обыкновенные платья барышень. То она мне казалась маскарадной, то совсем простой и даже единственно возможной. Это было широкое платье из мягкой белой материи, но одинаково широкое вверху и в подоле (я видел теперь ее всю, потому что стоял у изгороди с другой стороны), с узким темно-красным поясом. Я понял, почему был такой странный шорох, когда она шла: платье кончалось длинным шлейфом, и даже не шлейфом, а просто падающим сзади куском материи, небрежным и красивым. Рукава были узкие и длинные, почти до пальцев. Я, хорошо воспитанный молодой человек, умел держать себя с барышнями. Но тут ни на одну минуту я не подумал, что это -- барышня и с ней надо вести себя, как с другими. Я спросил ее: -- Отчего, это на вас такое странное платье? Она не удивилась. -- Оно красивее. Меня никто не видит, и потому я забочусь, чтобы я сама себе нравилась. -- И мне нравится,-- сказал я.-- А как вас зовут? -- Марта. -- Марта? Разве вы не русская? -- Нет, русская. Моя фамилия Коренева, я живу здесь с матерью. Разве вы не слышали? Слепая Коренева? Богачка? Я вспомнил, что точно слышал что-то о слепой старухе Кореневой, очень богатой, и о ее молоденькой дочери, которая много учится и нигде не бывает. -- Да, я слышал,-- медленно проговорил я.-- Как странно, мы соседи, а я только теперь вас вижу... -- Я не люблю выходить,-- поспешно сказала она.-- Да, так вы удивились, что я -- Марта. Я -- Марфа, но Марта красивее, и потому меня так называют. -- Да... Вы вообще красивы,-- сказал я в раздумьи, почти про себя. -- Правда? -- просто ответила она.-- Вот я тоже нахожу, что я красива. А многие говорят, что нет. Я думаю, что они не понимают. Меня не удивлял наш разговор. Я не мог убедить себя, что Марта -- барышня, а я ей говорю комплименты. Она казалась мне красивой, как небо сквозь деревья, как нежный, душистый воздух, как розовые облака около уходящего солнца. Она так подходила ко всему, даже к этому предвечернему часу, что мне не хотелось ни разговаривать, ни удивляться, а просто радоваться всему вместе. И она замолчала. -- Ну, теперь прощайте,-- сказала она наконец.-- Вы можете приходить сюда,-- прибавила она чуть-чуть высокомерно, но снисходительно.-- Вы не портите сада. И опять я услышал связный шорох ее платья, она ушла. Я не удивился и ее последним словам: она думала почти о том же, о чем я. Удивляешься тому, что еще чуждо, что вне тебя, а не в тебе... Я был странным весь вечер. Я пробовал играть, но звук рояля мне показался противным, резким и слишком определенным. Я пришел проститься к маме, но не сказал ей ни слова. И в первый раз в жизни мне показалось, что ее духи пахнут не настоящей весной... Два дня я не был в саду. Я сам не знаю, чего я боялся. Должно быть, того, что так хорошо уж не будет, а воспоминание я испорчу. Мама несколько раз замечала, что я бледен и мало играю. Отец все еще лежал, и мама большую часть дня была занята. -- Что ты, Володя? Хочешь, вечером пойдем гулять? Я отвечал вяло и апатично. Гулять по улицам мне не хотелось. Наконец на третий день я решился вдруг, как решаются слабые люди, быстро взял шляпу и твердыми шагами отправился в сад. Там многое изменилось. Дорожки стали суше, желтые анемоны ползли около цистерны; а на яблонях почки побелели и расширились. Даже на изгороди кое-где появились крошечные зеленые листики. Не успел я сесть на свою скамейку и опомниться, как сейчас же, сию минуту, я услышал знакомый шорох, Марта подошла к изгороди и сказала: -- Здравствуйте. Я встал и приблизился к ней. Она была в том же или в таком же платье, только пояс был не красный, а золотой. -- Отчего вы не приходили? -- спросила она.-- Ведь я вам сказала, что вы можете приходить. Впрочем, я знаю, почему вы не приходили. -- Почему? -- Все равно... Я знаю. Может быть, солнце бросало на нее свои лучи особенно; может быть, это было мое воображение, но мне казалось, что сегодня одежда ее чуть-чуть отливала розовым, как цветы яблони. Странное лицо было у Марты, я его не могу вспомнить; знаю только, что в ней во всей ничего не было темного или яркого. Волосы, завязанные сзади в простой узел, почти небрежный, серели и сливались с окружающим воздухом; лицо бледное, тонкое, продолговатое; глаза тоже бледные, но прозрачные, как чистая вода. Я не знаю, какого цвета были эти глаза. Я думаю, в полдень, когда небо очень синее, они темнели. Так -- я помню все черты, помню тоненькие, прямые полоски бровей, светло-розовые сжатые губы, а все лицо ускользает от меня. И я почти рад этому. Чем неуловимее воспоминание, тем оно полнее. -- А я знаю, где сегодня спрячется солнце,-- сказала Марта.-- Вон там, за этим уступом. А вчера оно зашло левее, гораздо левее. Я каждый день знаю, куда садится солнце. Ведь это мои дни, мои! -- произнесла она с торжеством.-- Хотите знать, что будет в саду завтра? Хотите, я вам скажу, в какую ночь распустятся яблони? -- Как вы знаете? -- спросил я тихо. -- Я знаю и сад, и весну, и солнце, и цветы, потому что я их люблю... И я поверил вдруг, что она точно все знает. -- Вы думаете, что чувствует вон та акация? -- спросила она. -- Я думаю -- радость... -- А какую? -- Как вы и я... Вот такую же... Радость от солнца. -- Да. Мы все вместе радуемся, все вместе... -- А я слышу иногда,-- прибавила она, помолчав,-- как вы играете. Отсюда хорошо, не резко. Я люблю... Я вспомнил, как и мне в эти дни звук рояля казался резким. -- Только...-- продолжала Марта,-- вы не сердитесь, но часто вы играете такое составное, из многих разных нот, а всего-то нет. Знаете, надо удаляться от того, что люди придумали, а надо слушать здесь,-- она провела рукой по воздуху,-- и стараться согласно, чтоб все вместе шло к одному... Она остановилась, видимо затрудняясь объяснить свою мысль, но, конечно, я ее понял. -- Я всегда так и думал,-- сказал я.-- Хорошо, что и вы тоже. Значит, это верно. -- А вы не умеете играть чего-нибудь простого, такого, нескорого? Вот я один раз слышала песню. Ее и в концертах поют, и играют, но не так. Знаете: "Ни слова, о друг мой, ни вздоха...". У меня нет голоса, я не могу петь, но я вам спою, чтобы вы знали мотив. И она запела тихо, почти говоря. Я прислушался к мотиву и попросил повторить. -- И слова какие хорошие,-- сказала она.-- Только теперь для меня непонятные. Теперь мои дни,-- повторила она опять.-- А вот кончится весна... Голос ее упал. Я вдруг вспомнил, что не видал ее улыбки. -- Вы никогда не смеетесь, Марта? -- спросил я. -- Солнце заходит,-- серьезно ответила она.-- Утром я смеюсь. Теперь, когда я сижу в своей петербургской квартире с темными окнами без занавесок, с черно-серым потолком, немного нависшим в середине, где торчит большой угрюмый крюк,-- теперь мне кажется, что ничего этого не было и не могло быть. Или все это я видел во сне? Но то, что случилось потом, ужасное, гадкое, невозможное, из-за чего я умираю, то ведь не сон. И между тем одно зависело от другого. Было ли все случайно? Или, напротив, нет и не может быть ничего случайного? Не знаю. Мне трудно думать об этом. Пусть решают другие. В тот же вечер, после второго свидания с Мартой, я потушил свечи в своей комнате, отворил окно и сел играть. Я старался вспомнить мотив, который она мне дала. Это был тихий, простой мотив из несложных нот. Я не прибавил к нему ни одного лишнего аккорда, ни одной гаммы. Я повторял все одно и то же, и опять сначала, и каждый раз, мне казалось, выходило иначе, лучше, больше напоминало весенний шум и желтые лучи вечерней зари. Я сам не знаю, что было со мною. Но было что-то хорошее. Я подошел к окну и поглядел вниз, не думая. Потом отворил дверь, спустился по темной лестнице на двор и пошел в сад. Там было светлее, чем в комнатах; стоял какой-то неясный, мерцающий полумрак. Молодой месяц закатился, светили только звезды. В конце дорожки тускло белело платье Марты. Я так и знал, что она тут и слушала. Она должна была слушать... -- Хорошо,-- сказала она шепотом, когда я был близко.-- Не говорите громко. Я вас ждала, мне надо сказать вам два слова. Завтра в сад не ходите. А послезавтра, да, послезавтра. Приходите с закатом, надолго. В тот вечер яблони станут распускаться. Мы можем увидать первый цветок. Первые цветы... Хотите? Придете? -- Да, приду,-- сказал я тоже шепотом. Она кивнула головой, отделилась от изгороди и ушла. Я остался один. Я встал поздно. Лениво прошел в столовую, лениво не допил своего кофе и, помня приказание, в сад не пошел, а вяло слонялся по комнатам. Приняться за что-нибудь не было силы. Я хотел пойти к маме, сесть с нею рядом, помолчать; несмотря на туман, в котором я жил последние дни, я беспокоился, мне недоставало чего-то -- я редко видел маму. Я ей не хотел ничего рассказывать -- ведь она не любит сада, а это только о саде. Но мама была мне нужна, как я сам. Я теперь только понял, что она чувствовала не то, что я, и не так, как я. Но зачем она обманывала меня столько времени? Зачем все сделала, чтобы я не смог без нее жить? Я сидел за обедом -- вялый и бледный, ничего не ел. Вдруг я почувствовал чей-то взгляд на себе и обернулся. Мама смотрела на меня в упор потемневшими глазами, и столько в них было неожиданной злобы и ненависти, что я вздрогнул, и сердце у меня похолодело, хотя я еще ничего не успел подумать и сообразить. "Да нет, я брежу, это мне показалось, этого не может быть",-- мелькнуло у меня в голове в следующую минуту. Но точно большая тяжесть придавила меня, и я сразу уменьшился и съежился и стал чувствовать свое собственное тело, и мои члены стали мне мешать. Прямо из-за стола я пошел в мамину уборную. Мамы там еще не было, но я стал ждать. Она придет. Она действительно пришла,-- не взглянув на меня, села в большое кресло и молчала. Я тоже молчал и страдал невыразимо, потому что эти страдания были какие-то неожиданные, бессмысленные и безнадежные. -- Я все знаю, Володя,-- сказала она наконец. При первых звуках ее голоса мне стало легче. Но слов ее я не понял. -- Ты о чем? -- спросил я с усилием. -- Говорю тебе -- я все знаю и все поняла. Ты влюблен. Ага! это должно было прийти, говорят. Но я говорю -- нет, не должно. Нет, не может! Я в это силы свои положила, и ты не уйдешь! Я с отчаянием и тупостью смотрел на ее безумие. Я испугался ее злобы, но не жалел ее. -- Да о чем ты, скажи хоть слово! Я не могу понять. Она успокоилась немного и продолжала тише: -- Ты любишь Марфу Кореневу. Я знаю, что вы видитесь в саду. Ты ходишь, как безумный. Не желаешь ли жениться на ней? К сожалению, не могу от тебя скрыть, твоя возлюбленная со странностями. Распущена с детства и чудит. Или дурочка, или уж чересчур умна. Берегись! И напрасно ты молчал. Я ведь все знаю. Мысли перепутались у меня в голове, язык не повиновался. Я люблю Марту? Да быть же не может! Я хочу на ней жениться? Я -- жениться? Нет, или кто-нибудь из нас сумасшедший, или все сумасшедшие. Я стал говорить, запинаясь, путаясь, сам себя не понимая. Говорил о саде, о весне, о яблонях, о Марте, и что Марта для меня -- оживший сад, то же, что небо и ветер... Но сейчас же вспоминал, как-то безнадежно, что нельзя этого понять, если не чувствовать... В душе у меня был только инстинктивный, режущий страх, что я один, что она уходит и ненавидит меня, а я не могу остаться один. Я готов был солгать в эту минуту, если б это чему-нибудь помогло, а я еще никогда не лгал. Я думаю, она увидала, что мне тяжело. -- Ну, хорошо,-- перебила она,-- ты и сам, кажется, не подозревал, что это так случится. Но помни, Володя. Наши отношения не таковы, Я не могла никогда и не могу быть пассивно-нежной матерью. Я тебе жизнь отдала до последней капли -- и ты мне всю свою отдай, всю, я к этому шла, и не разлучалась с тобой, и сделала тебя сама -- для себя. Может быть, это дурно, мне все равно. Это справедливо. Я на самопожертвования не снособна. Да и поздно теперь. Теперь -- как бы ты ни любил жену, возлюбленную, как бы она тебя ни любила -- ты без меня не проживешь! Она сказала это злорадно и встала. Я подошел к ней, обнял и заглянул в глаза. -- Не мучай меня,-- проговорил я.-- Ну да, я твой, не могу без тебя. Я никаких жен не хочу. Я никого не люблю. Мне странно, зачем ты... Я сад люблю, я цветы люблю и музыку... Прости мне. Она обняла меня крепко и сказала: -- Ты должен обещать, что не пойдешь в сад и не увидишь Марту. Ты еще не любишь ее, но я чувствую, не говори, я чувствую, что нельзя... Я знаю, ты можешь изменить своему обещанию, мой слабенький мальчик... Завтра только потерпи... Послезавтра утром мы уедем. Хорошо? Завтра! Ведь в этот вечер должны только распуститься яблони. -- Ты молчишь? Тебе не хочется? Она опять сдвинула брови. Я обещал. Мне было тяжело, я плакал. Я так любил цветы... Но я знал, что смогу для нее. Я верил, хотя не понимал, что нельзя идти... С утра начались приготовления к отъезду. Экономка не могла ехать с нами, потому что отец еще был болен. Мама энергично принялась за все сама. Никто не понимал, зачем мы едем и почему так скоро. Я сидел, как мертвый, с полузакрытыми глазами. Солнце подошло к окну, и лучи упали на меня. Я словно испугался, встал и спустил занавеску. Солнце было не мое. Часы проходили, сердце во мне как-то тупо ныло, тупо и беспрерывно. Я страдал с недоумением, но покоряясь и не рассуждая, не имея силы ни выбирать, ни решать. Все равно, будь что будет. Но в час заката я хотел пойти к маме, прижаться к ней, закрыть глаза и просидеть так долго, без времени. Я вышел в гостиную, взглянул в окошко. Солнце было уже круглое и большое и касалось одним краем серой горы. Я пошел, почти побежал в мамину комнату. Там никого не было. Я миновал угловую,-- никого. В коридоре я встретил горничную. -- Где барыня? -- спросил я, спеша. -- Уехали-с, только сейчас, насчет коляски -- завтра утром, а оттуда, велели сказать, что к Полоцким поедут, вернутся поздно; что, коли угодно, так чтобы и вы к Полоцким часов в девять пожаловали, а коли не так здоровы, то чтобы лечь изволили пораньше... Я не дослушал горничную. Это было жестоко. Это было не по силам мне. Я -- один, теперь, в эту минуту, один со своим обещанием и таким больным желанием еще раз увидеть сад, весну, послушать, что будут говорить яблони... Как всему я покоряюсь без борьбы, всему, что сильнее меня,-- я покорился и тут неизбежному. Я еще раз посмотрел на солнце, слабо улыбнулся и, не оглядываясь, не останавливаясь, пошел в сад. Когда я захлопнул за собой калитку и сделал несколько шагов вглубь -- я вдруг ожил. Ожил и все забыл. С каждой секундой мне делалось легче и радостнее. Ароматы, смешанные, разнородные, разнотонные, охватили меня. Я вернулся к друзьям, и мне было стыдно, что я у них давно не был. Незаметно я дошел до конца дорожки. Марта была тут, уже не за изгородью, а на моей скамейке; она сидела со сложенными на коленях руками и смотрела на меня строго. -- Простите, Марта,-- сказал я.-- Солнце закатилось. -- Нет. Оно еще не за горизонтом. Оно только за горой. Ничего. Я сел с ней рядом. Она показалась мне бледнее, чем была. Но платье, теперь я уже не мог сомневаться, было не белое, а чуть-чуть розовое. -- Мы будем ждать,-- сказала Марта.-- Они должны сегодня распуститься. Видите месяц на небе? Видите -- белый, как маленькое облачко? Когда он станет светлеть, а небо станет выше,-- тогда они распустятся. -- Отчего вы такая, Марта? -- спросил я.-- Вы точно сами с ними. -- А вы разве не такой? И вы такой, и вы так же любите, оттого я и рада, что вы со мной, я люблю вас. -- И я люблю вас, Марта,-- сказал я.-- Как сад, как всё. Она повторила: "Как всё..." -- и задумалась. Короткие сумерки пролетели. Месяц сверкнул и бросил робкий, неумелый и неясный свет на дорожку. Сильнее запахло землей и анемонами. Крепкие ветки яблони кинули тень. И точно все; до тех пор безмолвное и неподвижное, зашепталось и зашевелилось. Чуть видный, почти невидный, пар или дым скользил по лунному свету. Тени набегали и сбегали с цветов. Небо вместе с месяцем становились все выше, все дальше и холоднее. Мне было страшно и жутко. Я ждал чего-то, весь ушел в это ожидание. Марта не смотрела на меня. Ей было холодно. Она подвинулась ко мне, я бессознательно обнял ее, просто чтоб быть ближе и вместе ждать. -- Надо спокойнее, спокойнее,-- проговорила Марта, положив бледную руку на мою.-- Мы не должны волноваться. Мы должны так тихо, совсем тихо ждать. Без тишины в душе нельзя быть близкими ей. Я понял, что она хотела сказать -- "природе". -- А мы будем близки, правда, мы будем? -- продолжала она торопливо, заглядывая мне в глаза.-- И я, и ты, мы оба -- с ней вместе... Никогда больше, никогда сильнее я не чувствовал, что я -- "с ней вместе", и что в этом счастье, если это может длиться. Какой-то новый, неясный запах дошел до нас. Мы оба сразу его услышали и оба вместе поняли через минуту, откуда он. -- Первый цветок распустился,-- сказала Марта.-- Оставь, не смотри на него. Погоди, сейчас другие... Она говорила шепотом, но торжественно и серьезно, и крепче прижималась ко мне. Я хотел что-то сказать, но она шепнула: "Ни слова..." -- и посмотрела умоляюще. Я замолчал -- и рад был молчать. Мне больше ничего не хотелось, кроме того, что было. Я думаю, это и есть счастье. Весь сад наполнялся новым, сильным ароматом. Месяц никнул и уходил с неба, но яблони не темнели. Они были белые не от лунного света. Когда прошло время, и все кругом нас стало яснее и холоднее, небо позеленело, и утренние сумерки спустились,-- я взглянул близко в лицо Марты, Марта сидела все в том же положении, прижавшись ко мне. Она подняла глаза и улыбнулась. -- Пора,-- сказала она.-- Сейчас будет солнце. Яблони цветут. Что-то ударило меня в сердце. Я вспомнил. Я побледнел, в груди стало тяжело и холодно. Марта тревожно взглянула. -- Что с тобой? -- Марта. Я стал несчастен... Пожалей меня... Я уезжаю... -- Уезжаешь? -- проговорила она медленно, без удивленья.-- Так рано? Подожди. Еще есть время. Подожди, пока они начнут осыпаться. -- Не могу, не могу... Я не сам... меня... -- Ах, другие,-- сказала она спокойно.-- Они всегда мешают, всегда, во всем. Ступай, не будь несчастен. Только я не хотела так рано... Я с тоской взглянул в ее глаза. Они были широко раскрыты и покойны, только совсем, до краев, полны слезами. Казалось, если она чуть пошевельнет ресницами или переведет взгляд, слезы прольются. Я встал. Она осталась на скамейке и не смотрела на меня. -- Прощай, Марта,-- сказал я. -- Прощай. Ты не забудь... -- Чего? - Всего. Я не забуду. Мы оба теперь знаем, как нужно жить. -- Марта! Но ведь другие... -- Да, другие! А ты не можешь, ты не сумеешь... Все-таки не забудь; Я взглянул на нее, на зеленое, совсем светлое небо, яблони, точно осыпанные снегом, и сказал: -- Не забуду. Прощай. Она кивнула мне головой. Я ушел. Что случилось дальше --- я расскажу коротко и скоро, мне слишком тяжело. Она, мама, сделала все нарочно, чтобы отомстить мне, я знаю. Правда, она сама в эту ночь похудела и осунулась, но я думаю, от сильной ненависти ко мне. Все тут сошлось. Да я и знал, что она не простит. Она не могла простить. Я и не говорил ей ничего. Я был как мертвый. Если б она велела мне взять револьвер и застрелиться -- я бы молча взял револьвер и застрелился. Она велела мне уехать одному, сказала, что никогда не увидит меня и не простит. Но я думаю, она чувствовала, что не выдержит и простит, когда увидит, что я не могу жить; поэтому, чтобы не изменить себе, она умерла нарочно. Да, да, я не сомневаюсь, что она это сделала нарочно. Доктора говорят, что у ней был дифтерит, но что ж из этого? Дифтерит мог быть, а все-таки она бы, верно, не умерла, если б сильно хотела не умереть. Я приехал из Москвы на третий день после смерти. Она уже стала разлагаться. Такой уксусный и страшный запах шел от нее. Я посмотрел ей в лицо и ничего не сказал. Какой-то господин подошел ко мне, долго жал руку, просил подкрепиться и сказал: -- Да, ваша матушка была удивительная женщина. Как вы должны быть потрясены! У вас были с нею удивительные отношения,.. Я неестественно рассмеялся и сказал: -- Да, да, вы правы... И сам пожал руку господину. Потом ее похоронили, и я уехал. Зачем бы я там остался? О Марте я не спросил, в сад не заходил... И прошло сколько-то лет. Я не помню теперь хорошо -- сколько. Я не помню, как я жил. Я все стал забывать. Порой, впрочем, я вспоминаю ту ночь, когда распускались яблони. Сажусь за рояль и играю маленькую песенку: "Ни слова, о друг мой..." Мне делается светлее. Но это редко; я редко могу вспоминать... И с каждым часом прибавляется тяжесть жизни. Я живу, потому что не имею силы даже умереть. Живу в Петербурге, один, в темной и пропахшей кухней квартире, даю свои ненужные уроки музыки и ненужно возвращаюсь домой. Сколько времени это еще будет продолжаться? Посредине потолка в большой комнате есть крюк... Я уж говорил о нем. Так вот, мне приходит мысль: что, если я принесу из передней веревку от чемодана и закину ее на крюк? Ведь никто даже и не узнает, особенно теперь, ночью... Старуха, моя кухарка, спит. И, главное, ничего не сделается от того, что я закину веревку на крюк. Ее можно снять и снести обратно в переднюю. Даже если я петлю сделаю -- и то ничего ровно не случится, ведь не повешусь же, ведь не должен же я, оттого что сделаю петлю, непременно повеситься? Это так ужасно, так некрасиво... Как я далеко от Марты!.. Но разве я в самом деле?.. Нет, нет, я только попробую, никто не узнает, а я попробую...
ПРИМЕЧАНИЯ
"Наше время" . 1893. No 16 (18 апр.). C. 257--258; No 17 (25 апр.). С. 275--278; No 18 (2 мая). С. 291--294; НЛ. С. 1--31. Первоначально Гиппиус предполагала предложить рассказ М. М. Стасюлевичу для опубликования в "Вестнике Европы"; 6 февраля 1893 г. она писала Н. М. Минскому: "Как я умна, что не послала "Яблони"! Вот уж никогда бы они не были в В. Е., за это можно поручиться" (ИРЛИ. Ф. 39. Ед. хр. 205). Критика единодушно отнесла "Яблони цветут" к числу "вычурных" рассказов Гиппиус (Русская Мысль. 1896. No 2. Отд. III. С. 51); главный герой был разоблачен как "нравственный урод, один из тех мягкотелых, безвольных шалопаев, которые вырастают в оранжерейной атмосфере даровых хлебов" (Скабичевский А. Литература в жизни и жизнь в литературе // Новое слово. 1896. No 7. Отд. II. С. 79). "Ни слова, о друг мой, ни вздоха..." -- популярный романс П. И. Чайковского (1870) на текст стихотворения А. Н. Плещеева "Молчание" (1861; перевод из Морица Гартмана). НЛ -- Гиппиус (Meрежковская) З. Н. Новые люди: Рассказы. СПб.: Тип. М. Меркушева, 1896.Врач сказал, операция будет довольно сложной, и мне надо серьезно к ней подготовиться. Составить у нотариуса завещание, отнести комнатные цветы, кота и рыбок родителям или друзьям, прибрать все личные вещи и… не волноваться.
Последнее может только усугубить мое нынешнее состояние, а это сейчас нежелательно.
Я молча слушаю. В ординаторской открыто окно, и ветер нервно, совсем по-человечески теребит шторы. «И пожалуйста, не забудьте подстричься, – заключил медик, – коротко, очень коротко. Все равно вам перед операцией голову побреем. Так что постарайтесь хотя бы немножечко облегчить нам задачу и подготовиться сами. И пожалуйста, не задерживайтесь утром…»
В коридоре поликлиники непривычно тихо.
Я иду по бледно-желтому линолеуму, который только что помыли хлоркой, мой тридцать девятый быстро делает отражения-отпечатки. Раз-раз-раз. Новенькие туфли умело подчеркивают стройные бледные ноги, я бы сказала даже худые, но не скажу, надо себя любить. Хотя бы теперь, накануне, а потом…
О, как я не права!
Если я буду где-то, пусть и вне тела, значит, там тоже будет любовь. Я почему-то в этом уверена. Иногда. Что за странность? Уезжать из родного гнезда в семнадцать, безнадежно ломать жизнь среди чужих людей, а потом удивляться, почему в больнице никто не навещает. Да очень просто. Не нужна я в этом мире ни-ко-му, кроме одного маленького человечка, который уверен, что я повелеваю звездами, людьми, машинами, ветрами и бурями и вообще всем, что есть в этом огромном мире, он меня называет своей мамой, а я его сыном.
Я – Арина Райдер, двадцатипятилетний безнадежно больной журналист.
Природа прощается со мной как может. Холодный ветер забрасывает меня гнилыми листьями, придорожным мусором.
По дороге быстро ездят грязные машины. Мчатся, будто торопятся изо всех сил на тот свет. Я их понимаю. Этот не слишком привлекателен. Иду медленно. Сегодня я последний раз иду по этой тропинке, одинокие прохожие моей медлительности удивляются, зачем, спрашивается, подолгу смотреть, да еще так внимательно, на окружающую серость? Отовсюду проступающий густой мрак. Так бывает только ранней весной или поздней осенью.
По правде сказать, я всегда серости боялась. Еще в детстве меня пугала сама мысль стать таким же потребителем, как все, смотреть тупо целыми днями телевизор, хлопать коврики на детской площадке, запасаться вареньями-соленьями на всю зиму с таким остервенением, как будто на всю оставшуюся жизнь. И жить, как живут все вокруг, ну или почти все – сезонами редиски.
Мерещился мир, полный солнца, цветов и красивых замков.
Одно время даже обшарпанный подъезд, в котором я живу, стал вдруг напоминать большой старинный корабль, устремляющийся в неведомое, а потому, безусловно, прекрасное пространство, и тогда я поняла: все, больна. Стали мучить ночами кошмары, а затем появились приступы боли и беспамятства. Через полгода силы медленно начали оставлять меня. Приходила слабость, а вместе с ней и непонятное успокоение.
Вскоре я поняла его природу: успокоение – это отсутствие сиюминутных желаний, это радость от каждого лучика солнца, от каждого придорожного цветка, это осознание ценности настоящего момента, который уже поэтому прекрасный и, несомненно, самый важный. И нет ничего светлее этой радости.
Примечательно, но, несмотря на наличие денег, меня вдруг стали сторониться цыганки.
Этому объяснения я не знаю, ведь в моей студенческой молодости, когда перебивалась с хлеба на воду, смуглые представители городского кочевого племени не давали покоя. «Хорошая моя, дай я тебе погадаю!» – сколько раз слышала я эти слова в свой адрес. И бежала, бежала от них, стараясь не смотреть в глаза цыганам, кто не слышал об их гипнозе? Об их поистине уникальных воровских талантах? Как же они почувствовали, что это все? Все? Проходили мимо, стараясь не смотреть на меня, и от этого становилось не по себе. Теперь самой просто так хотелось им денег дать, но они обычно шли мимо все как одна, не глядя в мою сторону.
Цветы я долго поливала, а потом вместе с рыбками и котом отнесла это добро соседке, сказала, еду срочно в командировку. Любопытная соседка на этот раз почему-то не спросила, куда еду и надолго ли? Посмотрела с какой-то не то грустью, не то сожалением и сказала, чтобы я за свое имущество не волновалась, она все сохранит в лучшем виде.
Но самое горькое в сегодняшнем дне, что напоследок нельзя даже выпить вина. А как хочется.
Зажигаю свечу и начинаю молиться. «Отче наш, иже еси на небеси и на земли…» – четко представляю небо со всем содержимым и чувствую, ухожу, ухожу безвозвратно…
Кто-то сказал, в молитве человек соединяется с Богом. Так вот это не совсем так. Человек соединяется с Богом в самой искренней молитве, а значит, последней. Мгновение. И я уже вижу себя со стороны. Чуть пухлое лицо, толстые косы. Какая глупость, жить на земле и грустить.
В детстве я слышала такую легенду: когда рождается человек, Господь посылает ему с неба душу. Чтобы мизерное облако долетело до земли, Он прикрепляет к ней зерно. Где человек родился, там оно и приземляется, и со временем вместе с взрослением человека вырастает в большое дерево. Чтобы это дерево всегда было полным жизни, человеку нужно творить добрые дела, радоваться, честно выполнять свое предназначение, и тогда – невидимое миру дерево благоухает, как плакучая верба весной, посаженная возле полноводного озера. А когда человек грустит, злится, оно начинает сохнуть, сбрасывать листья, ветки, а потом и вовсе гибнет и отпускает душу.
Мое дерево далеко отсюда, но я чувствую, как оно вянет. Почему? Ведь я стараюсь не грустить. Ну разве чуть-чуть. Не стоит же из-за этого сбрасывать листья или тем более ветки.
Теперешнее мое чувство не передать словами, его можно понять только на уровне интуиции. Совсем не страшно, не больно, не тепло, не холодно. Знаю, душа сейчас делает большую работу по самоочищению, вспоминаю грешные эпизоды своей жизни, прощаю всех и прощаюсь с каждым. Все происходит медленно и молча, трепещет только сердце, оно как дикая птица в клетке бьется-бьется, будто рвется на волю.
С полной ответственностью могу заявить, что душа есть.
Однажды я брала интервью у пожилой женщины, которая в отдаленном городке почти двадцать лет моет покойников. Призвание у нее такое, а может, и не призвание, а кара небесная. Но это с одной стороны, а с другой – раз ее деятельность кому-то нужна, а ей не то чтобы нравится, нет, просто зарабатывать на жизнь надо, то почему бы и не мыть покойников? В этом деле, как, впрочем, и во всяком, главное привычка. Не более.
Это, пожалуй, как журналистика для меня.
Раз стихи и сказки никому не нужны, а жить надо, то почему бы не писать сиюминутные статьи, «горячие» репортажи, искать сенсации, в которых совершенно никакой пользы. Прочитал – и забыл.
А если и западет такое «творчество» в память, то это обязательно будет из области потребительского, то, что нужно использовать. И все. Впрочем, что это я о себе?
…Желание людей красиво уйти из этой жизни – древнее, очень древнее. Как и весь род человеческий, наверное. Потому и возникла похоронная индустрия. Сначала были фараоны и цари со своими гетерами и плакальщицами, которых к этому ремеслу готовили с раннего детства, сейчас многочисленные похоронные бюро. Но не о них речь. Речь об обычной бабушке, которая уже многие годы моет покойников. И в этом маленьком поселке, где все знают друг друга с детства, знают, ее имя окружено ореолом таинственности, а домик, в котором она живет, стоит на пригорке. Как бы возвышаясь над всем остальным миром.
Перед началом наблюдения педагог разыгрывает сценку о том, как птичка-синичка приглашает детей на прогулку, посмотреть на весенние чудеса. Она передает детям для поиска чудес план с изображением маршрута поиска. Дети выходят на участок, идут согласно плану, оставляя метки около обозначенных на плане деревьев: ели, черемухи, березы маньчжурской, ореха маньчжурского, тополя.
Синичка. (За нее говорит воспитатель) Дети, отгадайте загадку.
Зимою спит устало
Под снежным одеялом,
Весною белым цветом,
Как девица одета.
Синичка. Посмотрите на это дерево и расскажите, что вы знаете о нем. (Дети рассказывают о строении яблони и ее внешнем виде.) Отгадайте еще одну загадку:
Был тугим кулачком,
а раскрылся – стал цветком.
Послушайте, какое замечательное стихотворение написала поэтесса о яблоне:
Ах, как пленительно — легки
В весенней утренней прохладе
Цветущих яблонь мотыльки,
Летящие к небесной глади.
Синичка. Ребята, эта яблоня не обычная, на ней растут не большие яблоки, как в магазине, а маленькие похожие на ягоды на длинных черешках. Зимой птицы очень любят лакомиться этими яблочками. А называется наша яблонька – китайка или яблоня маньчжурская. Вы заметили, как часто встречается слово « маньчжурская» в названии деревьев, растущих в Уссурийской тайге? А в названии еще каких деревьев встречается это слово?
Игровое упражнение «Назови дерево со словом «маньчжурский».
Дети называют маньчжурский орех, ясень, клен, аралию и др.
Воспитатель. Ребята, посмотрите внимательно на яблоньку — китайку, она прекрасна в своем цветении, но все-таки цветов на ней этой весной меньше, чем обычно. Почему? (Дети высказывают предположения, что весна была затяжной и холодной, поэтому цветение у яблони слабое). Есть народная примета: « Май холодный — год голодный».
Дидактическая игра «Загадай — мы отгадаем».
Ведущий описывает любое дерево, а дети угадывают его по описанию. За правильный ответ игрок получает фишку. В конце игры подсчитывается количество фишек у игроков и определяется победитель.
Например: это дерево высотой с 5-и этажный дом, крона расположена высоко, имеет куполообразную форму, рыхлая. Стволы покрыты светло-серой корой, испещренной мелкими трещинами. Листья сложные, на длинных красных черешках. Край зубчатый. Молодые листья красно-оранжевые, в зрелом возрасте – интенсивно-зеленые сверху и светло-зеленые снизу. Осенью окраска листьев меняется на пурпурно-красную. Цветки большие, желто-зеленые, собраны в кисти, цветут одновременно с распусканием листьев.
Клен маньчжурский